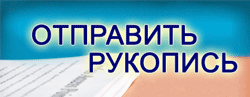Репрезентация телесности в романе З. Прилепина «Патологии»
- Авторы: Мамедова Д.П.1, Нечаева Е.А.2
-
Учреждения:
- Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва
- Самарский университет
- Выпуск: № 2(23) (2023)
- Страницы: 99-103
- Раздел: Литературоведение
- Дата публикации: 30.12.2023
- URL: https://vmuis.ru/smus/article/view/22860
- ID: 22860
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В данной статье рассматривается, как в художественном произведении XXI века манифестируется и вербализируется травма, т.е. как создается «нарратив травмы». Исследование вписывается в парадигму trauma studies; через призму анализа восприятия тела (телесности) героями романа, выявляется, какие стратегии избирает автор для репрезентации травматического события. Выявлено, что в сознании героя механизмами облегчения восприятия тяжелых и немыслимых ситуаций, явлений и предметов, которые не могут быть встроены в символическую структуру непосредственно, являются восприятие травмирующих событий и образов через простые и безопасные образы, объективизация травмирующего абстрактного явления и отчуждение от него, описание живого как нормального, мертвого как выходящего за рамки нормы и т.д. Кроме того, в данной статье выявлены особенности художественного мира романа З. Прилепина, связанные с сюжетообразующим событием произведения, которое и является травмообразующим в жизни героя.
Полный текст
Одной из особенностей травматического опыта является невозможность его проговаривания, вербализации. Перед литературоведением стоит задача описания тех способов высказывания, которые оформляют некий травматический опыт. Такой подход, как trauma studies, наиболее полно позволяет исследовать способы репрезентации травмы. «В рамках trauma studies внимание нацелено на способы репрезентации травмы как личного пережитого опыта и как социального конструкта, репрезентируемого в культурной памяти (места памяти, культурные ритуалы, призванные заставить общество «не забывать» о произошедшей трагедии)» [1, с. 3]. О. Мороз определяет аналитику травмы, или trauma studies, как «один из междисциплинарных способов «номинализации», говорения о заведомо болезненных и зачастую закрытых от прозрачной манифестации и артикуляции событий» [2, с. 1]. Именно репрезентация травмы и является объектом данного исследования. Нас интересует то, как о травме говорить (так как нет «клише» – «готовых» способов «проговаривания» травматического опыта).
Перед многими писателями, которые говорят, например, о войне стоит задача создания некоего нарратива травмы. Именно репрезентация травмы и представляет интерес для данного исследования.
Репрезентативным материалом является роман Захара Прилепина «Патологии» (2005г.). В нем общим травмообразующим событием в жизни персонажей стала война, а точнее, одна из чеченских кампаний. Вообще авторское видение человека на войне, анализ его ощущений и реакции на смерть влились в отечественную традицию раскрытия этой темы и, в первую очередь, стали явлением языка.
В отсутствие способов говорения о травме (языка травмы) стратегией выражения травматического опыта является осмысление этого опыта через конструкт телесности. Попытка вписать травматический опыт в символическую структуру субъекта, в его картину мира осуществляется как попытка говорения о страшных, травмирующих событиях в категориях мышления о знакомом и безопасном: «Возникает ощущенье, что я кручусь на Чёртовом колесе, и моя кабинка резко падает вниз: что-то падает на дно желудка, и одновременно давит на виски изнутри» [3, с. 91-92]. Здесь сопоставление с чувствами и ощущениями в теле, которые возникают при катании на аттракционе «Чертово колесо», используется для того, чтобы эти ощущения вписались в картину мира героя, чтобы их можно было помыслить. Для передачи этих ощущений главный герой романа, Егор Ташевский, обращается к пережитому в детстве опыту. Такой опыт является безопасным, знакомым и «освоенным», что облегчает восприятие и осознание чувств, возникших уже опасной и пугающей ситуации.
Герой прибегает к сравнению сложных для восприятия картин и явлений с елочными игрушками, ватой, мишурой, пластилином, банкой с вареньем («Я снова закуриваю, мне не хочется, но я курю, и во рту создается ощущение, будто пожевал ваты. И ещё, будто этой ватой обложили все внутренности головы - ярко-розовый мозг, мишуру артерий, – как ёлочные игрушки» [3, с. 68]; «в голове его, будто сделанной из розового пластилина, выше надбровья образовалась вмятина. Такое ощущение, что кто-то ткнул туда пальцем и палец вошел почти целиком» [3, с. 53]; «у него прострелена щека, а на груди будто разбита банка с вареньем, – чёрная густая жидкость и налипшее на это месиво стекло с лобовухи» [3, с. 25]).
Чем сложнее и страшнее картина, чем больше она противопоставляется «нормальной», тем чаще используются подобные способы номинализации. Учитывая их многократность, можно сделать вывод о том, что проведение аналогии между болезненным, тяжелым для осознания и простым, безопасным явлением – характерная особенность восприятия Егора Ташевского. Причем, как правило, «безопасное», через которое мыслится страшное, – это безопасное из детства.
В фрагменте «лязгнув брюхом автобуса о железо ограды» [3, с. 2] представлено сравнение объекта с телом. В данном случае, используя метафоризацию, автор сравнивает низ маршрутки, ее подвеску, и брюхо животного. Несколько примеров свидетельствуют о том, что даже неодушевленные предметы сопоставляются либо с животной, либо с человеческой телесностью («Я услышал звук открываемой двери, – предваряющийся шипом, заключающийся стуком о поручень, и представляющий собой, будто бы рывок железной мышцы» [3, с. 2]; «Вскрытое брюхо «борта» кишит пацанами в камуфляже» [3, с. 4]). Мы сделали вывод, что роман организован таким образом, что ориентация на тело и телесность является центром художественного мира, его доминантой.
У героя особые отношения с телесностью. «Даже не знаю, чем я шевелил, дергал, дрыгал на этот раз, какой конечностью, – хвостом ли, плавниками, крыльями» [3, с. 4]. Интересным является то, что в момент, когда силы на исходе, но цель уже близко, границы тела героя размываются. «Даже не знаю, чем я шевелил» в сочетании с «хвостом ли, плавниками, крыльями» говорит о невозможности идентификации границ собственного тела, о невозможности понимания и осознания этих границ.
«Какие у меня крепкие, жесткие мышцы», – думаю я» [с. 68]. Иногда боец спецназа будто впервые видит свое тело, удивляется его характеристикам и свойствам, знакомится с ним. Это вызвано диссоциацией телесного и душевного, личностного в сознании героя.
«Стягиваю с ног берцы, безобразно грязные и сырые носки. С удивлением смотрю на свои белые, отсыревшие пальцы, шевелю ими. Рядом садится Скворец, тоже разувается. Тоже шевелит пальцами. Сидим вдвоем и шевелим белыми, живыми, пахнущими жизнью, сладкой затхлостью, розовыми пальцами» [3, с. 94]. Диссоциация телесного и личностного как концептуализация Ташевского проецируется и на товарищей героя. Мужчины смотрят на свои собственные ноги «с удивлением», отмечая их белизну и розовость одновременно (и «белый», и «розовый» для героя – то же, что и живой); «живость» героев многократно подчеркивается.
Интересен следующий фрагмент: «Но не гнутся ноги, и, если я попробую присесть, они обломятся. И останутся, вдавленные в грязь, стоять два обрубка, с неровной, рваной линией надлома, ледяные изнутри, с обмороженной прослойкой мяса, и холодной костью» [3, с. 133]. Герой воспринимает тело как хрупкий и ломкий объект. Происходит двойная диссоциация бойца и части тела: помимо того, что ноги «неисправные» (обморожены, почти не управляемы), а значит, чужие, в воображаемой картине Егор доводит отчуждение до своего предела – отделяет ноги от остального тела и оставляет их «обрубками» в грязи.
«Голова непроницаемо больна. Боль живет и развивается в ней, как зародыш в яйце крокодила или удава или ещё какой-то склизкой нечисти. Я чувствую, как желток этого яйца крепнет, обрастая лапками, чешуйчатым хвостом, начинает внутри моего черепа медленно поворачивать, проверяя свои шейные позвонки, злобную мелкую харю. Вот-вот этот урод созреет и полезет наружу» [3, с. 89-90]. Эта метафоризация, согласно нашей концепции, имеет конкретную функцию. Объективизируя такое абстрактное явление, как головная боль, герой отделяет свое тело от этого ощущения. Таким образом, становится возможным перенести гнев и неприязнь с собственного тела на объект сравнения. Ташевский использует экспрессивную лексику с отрицательной оценкой: «урод», «слизкая нечисть», «злобная мелкая харя». Подобная объективизация – способ перенесения эмоций на воображаемый объект, без направления на себя.
Обратимся к следующему фрагменту: «Пенсионерка, так долго сетовавшая на платный проезд две остановки назад, как кукла кувыркнулась в воздухе, взмахнув старческими жирными, розовыми ногами» [3, с. 2]. Сравнивается тело с неодушевленным предметом. Происходит как бы «расчеловечивание». «Дает ещё одну очередь в дом и, ухватив, как куклу, Шею за ногу, тащит его на себя. Здоровенные ручищи нашего комвзвода беспомощно вытянуты» [3, с. 91]. Сравнение с куклой, уже использованное ранее Ташевским, устойчиво. Оно указывает на то, что тело не контролируется самим человеком и становится предметом, на который направляются внешние силы. Подчеркивает неестественность данного «опредмечивания» контраст, который создают «здоровенные ручищи» и беспомощность тела Шеи (одного из героев).
«В какой-то момент я понял, что голову мою выворачивает наизнанку. Будто со стороны я увидел её, вывернутую как резиновый мяч, – шмоток [орфография оригинала сохранена. – Д.М.] размягченных костей, украшенных холодным ляпком мозга, ушными раковинами, синим глупым языком… и челюстью, в который был зажат кусок джинса» [3, с. 3]. Данный эпизод свидетельствует о том, что Егор Ташевский воспринимает себя как объект, тело, мясо. Физическое давление и эмоциональное потрясения сливаются воедино, вызывая ощущение, будто голову выворачивают наизнанку. Язык здесь не «розовый», а «синий» и «глупый». Если цветовые характеристики напрямую связаны с ассоциацией «живое – мертвое», то эпитет «глупый» указывает на особенность восприятия искаженного, деформированного, мертвого. Герой считает, что оно нелепо, несуразно. Естественное и нормальное состояние человека – только живое и здоровое, тогда он – человек – является цельным.
Восприятие понятия «живости» раскрывает и следующая цитата: «Обгоревшее лицо ещё одного мертвеца смотрит спокойно. Так, наверное, смотрит в мир дерево. И нагота мертвеца спокойна, не терзает никого, не требует одежды. И не догоревшие сапоги на черном теле смотрятся вполне уместно. И железная бляха ремня, впечатанная в расплавившийся живот…» [3, с. 48]. Ташевский ассоциативно не связывает мертвого и живого человека, «опредмечивает» его, нормализуя тем самым само событие смерти. Происходит попытка ввести мертвое тело в нормальную систему координат. Эта попытка оказывается безуспешной, так как убеждение о том, что нормально только живое, здоровое и целостное, является глубинным и основополагающим.
«Раненых (я уверен, что парни просто ранены) несут к деревьям» [3, с. 91]. Уверенность героя ничем не обоснована. Это значит, что все люди для него априори воспринимаются как живые и для того, чтобы перевести их в разряд мертвых, нужны неопровержимые доказательства. Егор до последнего придерживается мысли о том, что жизнь – устойчивое состояние, которое довольно сложно изменить. «Живость» воспринимается героем как отдельная категория, на которой базируется мироощущение Егора Ташевского.
Противоположно жизни понятие смерти. «С щёлканьем ножниц на грязный пол падает кривая мелко струганная роговица, сухая мертвечина» [3, с. 116]. Субъект проводит четкую границу между живым и мертвым, противопоставляет их. Ногти, которые еще секунду назад находились на живом теле бойца, отделившись от него, становятся «мертвечиной». От нее Ташевский дистанцируется и все подобное воспринимает как чуждое.
«В глазах стоит дошлое, будто прокопчённое тельце со скрюченными пальцами рук, с отсутствующей вспузырившейся половиной лица, где в красном месиве белеют дроблёные кости» [3, с. 37]. Самая частотная телесная реакция на трупы – тошнота. Она объясняется как физической реакцией организма, например, на запах, так и психологической (мертвое – противоестественно и не вписывается в нормальную картину мира).
На войне все грани приличного, дозволенного и интимного стираются. «В углу дома лежит обгоревший труп. Совершенно голый. Открытый рот, губ нет, закинутая голова, разломанный надвое кадык. Горелый, черный, задранный вверх, будто эрегированный член» [3, с. 22]. Без всякого стеснения герой рассматривает и описывает половые органы мертвого человека. Это возможно и естественно потому, что тело воспринимается бойцом как объект, материя, отделенная от личности. Мертвый человек, в таком случае, уже не совсем человек для воспринимающего субъекта.
«Он падает вниз, лицом на каменный пол, переворачивается на бок, и я вижу Стёпу Черткова, с деформированной, мертвой головой» [3, с. 102]. Интересным является факт использования эналлаги: определение «мертвый» относится не к человеку в целом, а к его части – к голове; намного проще приписать смерть лишь части тела, чем осознать, что твой друг и товарищ мертв.
В многочисленных примерах («Слева – берцы Семёныча, тяжело вдавленные в кровавую лужу, в ошмётьях человечины, от которых, кажется, идёт пар…» [3, с. 129]) объективизация трупов достигает пика («ошметья человечины»). Куски мяса с исходящим от них паром никак не ассоциируется с целостным человеком. «Человечина» обезличена и опредмечена.
С другой стороны, материал дает возможность сделать вывод о том, что знакомые герою люди, умерев, не объективизируются, не становятся просто телом, предметом: мертвое тело не разрывает связь с живым образом: «Скрюченный юный мальчик лежит на боку, поджав острые колени к животу. И хилый беззащитный зад его гол, штанов на мертвом нет. Кто-то, не выдержав, накидывает на худые, белые бедра мертвого ветошь» [3, с. 48]. Нагота живого человека в обществе неприлична, она смущает. Так как мертвое тело не разрывает связь с живым образом, эта потребность в прикрывании интимных мест сохраняется. Бойцы почтительно относятся к мертвому телу, соблюдая его неприкосновенность.
Однако на войне границы между живым и мертвым насколько эфемерны, что герой не заостряет на них внимания. Все происходит очень быстро, и Ташевский фиксирует видоизменения тела, доступные для глаза, обходя само состояние – живое или мертвое: «Стёпа уже начал коченеть, мы положили его в кладовке без окон, неподалеку от «почивальни». Стёпина голова приняла глиняной оттенок. Показалось, что она расколется, если ударится об пол. Язва, которого понесли следом – ещё мягкий. Держа его за руку, вернее, за рукав «комка», я неотрывно смотрю на прилипшую к его почерневшему лбу прядь палёных волос» [3, с. 112]. Отметим, что в этом фрагменте нет прямого упоминания смерти.
Таким образом, можно выделить следующие положения об организации художественного мира романа: «живость» – отдельная категория, на которой базируется мироощущение Егора Ташевского; телесность – доминанта художественного мира романа; тело – объект, материя, отделенная от личности; мертвое неестественно и требует отчуждения.
Самыми частотными способами и инструментами репрезентации травматического опыта в романе Захара Прилепина «Патологии» являются восприятие сложного и тяжелого через простое и безопасное (часто из детства); искажение, стирание границ тела и стремление к их восстановлению; описание живого как нормального, мертвого как выходящего за рамки нормы; объективизация травмирующего абстрактного явления и отчуждение от него; цветовая характеристика как способ передачи отношения к предмету (живое – мертвое); устойчивое сравнение с куклой как указание на отсутствие контроля над телом.
Об авторах
Динара Парвизовна Мамедова
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва
Автор, ответственный за переписку.
Email: mamedinara02@gmail.com
Россия
Екатерина Андреевна Нечаева
Самарский университет
Email: nechaeva.ea.2@ssau.ru
кандидат филологических наук, доцент
РоссияСписок литературы
- Ovodova, S. N. Subordinates and traumatized: practices of understanding the representations of the voices of the "unheard" in trauma studies and postcolonial studies / S. N. Ovodova // Bulletin of Omsk University. – 2019. – Vol. 24. – No. 3. – pp. 116-120.
- Moroz, O. Trauma studies: History, representation, witness / O. Moroz, E. Suvorina // New Literary Review. – 2014. – № 1(125). – Pp. 59-74.
- Prilepin, Z. Pathologies [Text]: roman/ Zakhar Prilepin. – M.: AST: ed. by E. Shubina, 2016. – 138 p.
Дополнительные файлы