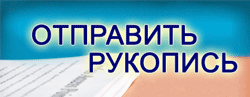Аутентичность людей с расстройством пищевого поведения
- Авторы: Капишникова Д.А.1, Гришин А.К.1
-
Учреждения:
- Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
- Выпуск: № 2(25) (2024)
- Страницы: 203-210
- Раздел: Психология
- Дата публикации: 30.12.2024
- URL: https://vmuis.ru/smus/article/view/27554
- ID: 27554
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В данной статье представлены результаты эмпирического исследования, целью которого было выявление уровня выраженности компонентов аутентичности и психологической разумности людей с расстройством пищевого поведения. Для его проведения использовались три методики: «Опросник аутентичности Керниса-Голдмана» (Authenticity Inventory, AI-3), «Опросник пищевых предпочтений» (Eating Attitudes Test, ЕАТ-26), «Шкала психологической разумности» (Psychological Mindedness Scale, PMS). При помощи попарного сравнения были выявлены различия между группами нормотипичных респондентов и лиц, страдающих расстройствами пищевого поведения. Методом кластерного анализы респонденты были разделена на группы с низкими средними и высокими баллами по шкале расстройства пищевого поведения относительно выборки. Установлено, что люди с расстройством пищевого поведения отличаются от нормотипичной выборки сниженным желанием обсуждать переживания, низкой непредвзятостью и неаутентичностью поведения. При помощи регрессионной модели были выделены предикторы высоких показателей по шкале баллов расстройства пищевого поведения.
Полный текст
Одной из мировых проблем на сегодняшний день является все более часто встречающееся среди подростков и молодых людей расстройство пищевого поведения – группа психических расстройств, связанных с поведенческими нарушениями приема пищи. Согласно международным исследованиям, уровень заболеваемости возрастает: с 3.5% (2000–2006 гг.) произошло увеличение до 7.8% (2013–2018 гг.), при этом лишь небольшой процент людей из этой категории находятся под наблюдением психиатра, следовательно, можно предположить, что результаты научных работ демонстрируют лишь нижнюю границу распространенности расстройства пищевого поведения [1; 2]. Для данного расстройства характерен высокий уровень смертности (5-15%) среди пациентов молодого возраста (16-29 лет), причем самоубийство в качестве причины смерти занимает второе место после сердечно-сосудистых осложнений [3; 4]. В группу риска входят особенно подростки, поскольку пик заболеваемости приходится именно на этот возраст: 13-15 лет для анорексии, булимия развивается чаще в старшем подростковом возрасте [5]. Основываясь на вышеизложенных статистических данных, можно утверждать, что расстройства пищевого поведения являются сложными заболеваниями, сопряженными с повышенными рисками для жизни и здоровья. Таким образом, возникает необходимость всестороннего изучения возникновения и прогрессирования этого типа расстройств.
Согласно МКБ-10 среди видов расстройств пищевого поведения выделяются нервная анорексия и нервная булимия, в классификации DSM-5 присутствуют критерии диагностирования и для расстройства переедания (binge-eating). В первом руководстве для нервной анорексии выделяются такие критерии как низкая масса тела – на 15% ниже нормальной или ожидаемой для соответствующего возраста, потеря веса инициируется самим больным, навязчивый страх набрать вес, восприятие себя как «слишком толстого», допустимость лишь низкого веса в отношении своего тела. В DSM-5 также различают рестриктивный и очистительный тип анорексии. В первом случае картина болезни выглядит типично: снижение веса за счет ограничения в питании, часто интенсивные физические нагрузки, перфекционизм. Во втором случае наблюдаются приступы переедания и компенсаторного поведения, что иногда может соответствовать всем критериям нервной булимии. Пациенты с очистительным типом анорексии также ассоциируются с более старшим возрастом, импульсивностью, среди них часто встречается употребление психоактивных веществ и суицидальное поведение. Для нервной булимии характерны реккурентные приступы переедания, когда за короткий промежуток времени поглощается значительно большой объем пищи, за которыми следует компенсаторное поведение в виде самоиндуцированной рвоты, приема диуретиков, слабительных, препаратов, понижающих аппетит, голодание, физические упражнения с целью контроля массы тела. Как и в отношении анорексии, в DSM-5 различают подтипы нервной булимии: очистительный тип – способы принудительного выведения из организма поглощенной пищи, неочистительный тип – голодание и физические нагрузки, сжигающие поступившие калории. В обоих руководствах нет указания на массу тела при нервной булимии. Хотя в критериях указаны стремление к худобе и страх поправиться, но чаще люди с булимией имеют нормальный индекс массы тела или даже выше среднего [6]. Период развития нервной булимии приходится чаще на более старший возраст, а у 30% женщин с этим диагнозом в анамнезе встречается нервная анорексия. Расстройство переедания (binge-eating) от нервной булимии отличает отсутствие компенсаторного поведения при характерных признаках: употребление большого количества пищи в короткий промежуток времени до ощущения неприятного дискомфорта в желудке, когда есть может и не хотеться, в одиночестве с сопровождающимся чувством стыда за съеденное, а после переедания наступление чувства вины и отвращения к себе [7].
Возникновение расстройств пищевого поведения изучалось в рамках психодинамического подхода (Х. Брух), системно-семейной психотерапии (С. Минухин, Б. Росман и Л. Бейкер), также М.В. Коркина, В.В. Марилов, М.А. Цивилько в своей работе «Нервная анорексия» применяют деятельностный подход. Они описывают этапы изменения мотивов похудения в истории жизни больных анорексией: первоначально похудение не является самостоятельной деятельностью, оно подчиняется общему мотиву – самоутверждение среди сверстников, а затем происходит «сдвиг мотива на цель действия» [8; 9; 10].
С медицинской и физиологической точки зрения расстройство пищевого поведения описывали О.А. Скугаревский, А.Е. Брюхин, В.Д. Менделевич и др. Результаты их наблюдений за пациентами несомненно формировали представление о динамике развития заболевания, его последствиях и эффективности лечения с точки зрения.
Публикаций на тему экзистенциального подхода к расстройству пищевого поведения существует не так много. А.А. Лэнгле и др. рассматривают расстройство пищевого поведения с точки зрения экзистенциально-аналитического подхода, и считают, что для булимии характерны нарушения с сфере отношений: с другими и собой, а также трудности в развитии собственной внутренней структуры, связанные со второй и третьей фундаментальными мотивациями соответственно [11]. В рамках данного подхода считается, что в основе появления булимической симптоматики лежат такие болезненные состояния как недостаток контакта и чувствования себя, то есть отношений с собой, и ощущения внутренней пустоты и отчужденности вследствие этого. Для человека недостаточно факта присутствия, ему важно переживание своей бытийности, что сопровождается возникающим спектром чувств. В этих переживаниях кроется информация о том, что на самом деле для человека является важным, ценным, на что обращено его бытие. Способность выдержать эту обращенность на себя обогащает жизнь чувствами, и она ощущается наполненной. При булимии отсутствует близость с собой, возникают трудности с ощущением своего тела, своего психологического состояния, что порождается неспособностью обращения к себе. В данном случае поглощение еды используется в качестве этого способа обращения внимания на себя, на самом деле таковым не являющимся. Поскольку интенсивность глубоких переживаний не может редуцироваться за счет приема пищи, в отсутствие другого способа ощущения себя, поглощение еды становится чрезмерным, что приобретает форму самоповреждения. Аутоагрессия возникает как злость на себя за невозможность насытиться, то есть получить наполненность от жизни. Изначальное чувство неблагополучия возникающие вследствие напряжения от переживаний одиночества, пустоты и скуки, после переедания не исчезает, а неудовольствие возрастает. При булимии не уделяется время ни на получение удовольствия от пищи, ни на себя, ни на других. Таким образом, не происходит переживания жизни, полной отношений и чувств, двигающих и направляющих человека.
Третья фундаментальная мотивация связана с вопросом «Имею ли я право быть собой?», который ведет к развитию аутентичности, но при отсутствии необходимых предпосылок развиваются перфекционизм и изолированность. Дефицит в сфере отношений, а значит невозможность получения подтверждения возможности быть собой и взгляда на себя на дистанции через отражение в другом, не способствует возникновению заинтересованности в отношении собственной индивидуальности. В отсутствии признания ценности личности сама Персона не обнаруживает «собственное», то, что бы отражало ее сущность. Как результат невозможности отграничения «собственного» не формируется самоценность. Пациенты с булимией переживают отчужденность от себя и теряют свою аутентичность.
Аутентичность большинством авторов рассматривается как диспозиционная черта личности и подразумевает самовыражение и проявление в соответствии с тем, каким я являюсь на самом деле, то есть отражение моего истинного «я», что требует глубокого самопознания и самопринятия. Аутентичная жизнь является процессом, а не результатом, сопутствующими которому являются ощущение целостности, благополучия и полноценное переживание любого опыта. М. Кернис и Б. Голдман определяют аутентичность как свободное проявление своего истинного «я» в повседневной деятельности. Авторы рассматривают аутентичность не как единый процесс, а разделяют этот концепт на четыре составляющие, которые связаны между собой, но представляют различные аспекты аутентичности: самоосознание или осознанность, непредвзятость, поведение и ориентация на отношения.
Осознание переживаний является важной составляющей психотерапии. В качестве предпосылки благоприятного терапевтического исхода рассматривается психологическая разумность как способность осознавать связь между своим мыслями, эмоциями и действиями (С.А. Аппельбаум) [12]. Б.А. Фарбер рассматривал психологическую разумность как диспозиционную черту, как склонность обдумывать мотивы поведения, чувства и мысли, в том числе и других людей [13]. В 1990 году была разработана «Шкала психологической разумности», авторами которой являются H. Conte, R. Plutchik, B. Jung. Согласно их концепции, психологически разумный человек имеет доступ к своим переживаниям, готов говорить о своих интрапсихических и межличностных проблемах, способен и мотивирован к изменениям, заинтересован в понимании мотивов поведения других людей, а также открыт новому опыту.
Целью данного эмпирического исследования является выявление уровня выраженности компонентов аутентичности и психологического разумности людей с расстройством пищевого поведения. В качестве гипотезы проверялось предположение о том, что люди с расстройством пищевого поведения отличаются от нормотипичной выборки низкими показателями по шкалам аутентичности и психологической разумности.
Условия и методы исследования
В исследовании, которое проводилось в период с февраля по март 2024 года, приняли участие 89 человек (84 женщины и 5 мужчин) от 16 до 44 лет. Испытуемым было предложено пройти три опросника через Google Forms. Перед прохождением им была предоставлена инструкция. С целью снижения вероятности социально-желательных ответов исследование проводилось анонимно.
В исследовании были использованы три психодиагностические методики.
Для измерения у испытуемых аутентичности как личностной черты был использован «Опросник аутентичности Керниса-Голдмана» (Authenticity Inventory, AI-3) в адаптация С. К. Нартова-Бочавер и др. (2022). Опросник содержит четыре шкалы: «Осознанность», «Непредвзятость», «Поведение», «Отношения» [14].
Осознанность или самоосознание (awareness) понимается как знание своих собственных мотивов, чувств, желаний и доверие им. Также самоосознающий себя человек заинтересован в том, чтобы познавать не только свои сильные стороны, но и слабые, иметь представление о своих целях и стремлениях.
Непредвзятость отражает объективную обработку воспринимаемой о себе информации, без искажений под воздействием незрелых защитных механизмов. Человек способный к непредвзятости в отношении себя, принимает не только положительную обратную связь о себе, но и обличающую недостатки.
Поведение означает действовать в соответствии со своими ценностями, предпочтениями и потребностями, не ориентируясь поиск одобрения со стороны других людей.
Ориентация на отношения отражает ценность открытости и честности с близкими. Аутентичные отношения предполагают взаимный процесс самораскрытия и доверие в близости, что способствует развитию безопасной привязанности с близкими людьми – это делает возможным подлинное выражение себя без какой-либо угрозы.
Для определения наличия расстройства пищевого поведения был использован «Опросник пищевых предпочтений», ОПП-26 (Eating Attitudes Test, ЕАТ-26). Авторами являются D. Garner, P. Garfinkel (1979), а адаптирован О. А. Скугаревским (2007). В опроснике содержится одна шкала, максимальное количество баллов которой 78: при наборе от 21 баллов считается, что у человека есть расстройство пищевого поведения [15].
Третьим опросником для измерения психологической разумности была выбрана «Шкала психологической разумности», ШПР (Psychological Mindedness Scale, PMS), авторы: H. Conte, R. Plutchik, B. Jung, (1990), адаптирован М. А. Новикова, Т. В. Корнилова (2014). Опросник содержит одну общую шкалу «Психологическая разумность» и пять подшкал: «Заинтересованность в сфере переживаний», «Доступность переживаний», «Польза от обсуждения переживаний», «Желание обсуждать переживания», «Открытость новому опыту» [16].
Для анализа результатов исследования были использованы методы математической статистики: t-критерий Стьюдента; U-критерий Манна-Уитни; кластерный анализ; регрессионный анализ.
Результаты и их обсуждение
Первоначально для каждого испытуемого по ключу обработки были посчитаны значения шкал по опроснику психологической разумности, опроснику аутентичности Керниса-Голдмана и шкала расстройства пищевого поведения (ШРПП).
Значения Шкалы расстройства пищевого поведения обусловили разделение выборки на контрастные группы «нет расстройства пищевого поведения» (20 или меньше баллов) и «Расстройство пищевого поведения» (более 20 баллов). Данное критическое значение взято у авторов опросника и позволило нам разделить выборку на тех, кто имеет расстройства пищевого поведения, и тех, кто их не имеет.
Далее для всех остальных шкал была проведена проверка нормальности распределения при помощи критерия Колмогорова-Смирного. Таким образом, у нас получилось принять за нормальное распределение только распределения шкал «Желание обсуждать переживания», «Осознанности», «Непредвзятость» и «Отношения».
На основании формы распределения каждой шкале был подобран соответствующий критерий для сравнения контрастных групп. Для нормально распределённых переменных использовался t-критерий Стьюдента для независимых выборок с предварительной проверкой на равенство дисперсий в контрастных группах критерием Левене, для остальных – его непараметрический аналог, U-критерий Манна-Уитни. Критерий Левене не показал достоверных отличий в изменчивости признака, поэтому мы предполагаем равенство дисперсий и считаем допустимым применение параметрических критериев для всех этих переменных.
Результаты применения выбранных методов представлены в таблице 1, p-уровни шкал, имеющих достоверные различия в выраженности в зависимости от группы отмечены *. Для таких шкал дополнительно в последнем столбце указана группа, в которой значение шкалы выше. Шкалам опросника психологической разумности были присвоены следующие аббревиатуры: ЗвСП (заинтересованность в сфере переживаний), ДП (доступность переживаний), ПоОП (польза от обсуждения переживаний), ЖиГОП (желание и готовность обсуждать переживания), ОНО (открытость новому опыту), ШПР (шкала психологической разумности), РПП (расстройство пищевого поведения).
Таблица 1. Результаты сравнения выраженности шкал между группами.
Сравнение | Использованный критерий | Значение критерия | p-уровень | Большая группа |
ЗвСП | U-критерий Манна-Уитни | 757 | 0,262 | |
ДП | U-критерий Манна-Уитни | 879 | 0,958 | |
ПоОП | U-критерий Манна-Уитни | 811,5 | 0,522 | |
ЖиГОП | t-критерий Стьюдента для независимых выборок | 2,427 | 0,017 * | нет РПП |
ОНО | U-критерий Манна-Уитни | 714,5 | 0,134 | |
ШПР | U-критерий Манна-Уитни | 824,5 | 0,599 | |
Осознанность | t-критерий Стьюдента для независимых выборок | 1,236 | 0,22 | |
Непредвзятость | t-критерий Стьюдента для независимых выборок | 2,996 | 0,004* | нет РПП |
Поведение | U-критерий Манна-Уитни | 824,5 | 0,028* | нет РПП |
Отношения | t-критерий Стьюдента для независимых выборок | 0,901 | 0,37 |
Достоверные различия между группами «Расстройство пищевого поведения» и «Нет расстройства пищевого поведения» были обнаружены для шкал Желание и готовность обсуждать переживания (p = 0,017), Непредвзятость (p = 0,004) на основании t-критерий Стьюдента и Поведение (p = 0,028) на основании U-критерий Манна-Уитни.
Исходя из результатов, можно сделать вывод о том, что люди с расстройством пищевого поведения менее готовы обсуждать проблемы, чем обуславливаются трудности в лечении таких пациентов, которые часто даже не приходят к специалистам за помощью или завершают терапию преждевременно. Эти данные подтверждают наши предположения, сделанные на основе описания личностных изменений с появлением болезни: любое вмешательство со стороны воспринимается людьми с расстройством пищевого поведения как угроза нарушения их внутренней целостной структуры.
Также расстройство пищевого поведения сопряжено с неспособностью воспринимать о себе информацию, которая может обнажать недостатки человека, то есть сталкиваться со своим реальным «я», что мешает самопознанию, а соответственно определению своих ценностей и совершению ценностных действий. Хотя людям с расстройством пищевого поведения характерна высокая степень критичности к себе, вероятно, получение критикующей обратной связи от мира провоцирует реакцию стыда и вины, с которыми вследствие неразвитого навыка самосострадания они не могут справиться.
Возможно, совершение действий, отражающих истинное «я» людей с расстройством пищевого поведения, затруднительно из-за страха столкнуться с восприятием других людей и испытать стыд за свое проявление. Также вследствие низкого самопознания у больных не сформировано представление об их ценностных направлениях развития, а соответственно у них отсутствует понимание о том, как выстроить свое аутентичное поведение.
С применением кластерного анализа (кластеризация К-средними) респонденты были условно разделены по количеству баллов расстройства пищевого поведения на низкий (N =30), средний (N=35) и высокий (N=24) уровни относительно выборки.
С целью проверки гипотезы о том, что люди с высокими показателями шкалы расстройства пищевого поведения обладают отличными от нормальных показателями «Желание и готовность обсуждать переживания», «Непредвзятость» и «Отношения», был применен однофакторный дисперсионный анализ (Фишер) для характеристики «Желание и готовность обсуждать переживания» и однофакторный дисперсионный анализ с непараметрической поправкой Уэлча для показателей «Непредвзятость» и «Отношения», вследствие их ненормального распределения.
Респонденты с высоким показателем баллов шкалы расстройства пищевого поведения обладают значимо меньшим желанием и готовностью обсуждать переживания (F= 14,02, p = <0,001), большей предвзятостью (Уэлч= 5.62, p = 0,006), сниженными баллами шкалы отношений (Уэлч= 3,30, p = 0,044).
Таблица 2. Показатели средних значений и стандартных отклонений в кластерах, различной выраженности ШРПП (шкалы расстройства пищевого поведения) с указанием их значимости.
| Низкий уровень баллов ШРПП (M = 9.47, SD = 6.00) | Средний уровень баллов ШРПП (M = 31.1, SD = 5,73) | Высокий уровень баллов ШРПП (M = 50.7, SD = 6.54) | Оценка достоверности различий | ||||
| M | SD | M | SD | M | SD | F/Уэлч | p |
ЖиГОП | 7.53 | 2.64 | 7.23 | 2.65 | 3.92 | 2.99 | 14.02 | <0.001 |
Непредвзятость | 3.16 | 0.66 | 2.81 | 0.68 | 2.52 | 0.76 | 5.62 | 0.006 |
Отношения | 2.89 | 0.58 | 2.91 | 0.57 | 2.58 | 0.5 | 3.30 | 0.044 |
N | 30 | 35 | 24 | |||||
Таким образом, люди с высокими показателями шкалы расстройства пищевого поведения проявляли снижение желания и готовности обсуждать переживания на 45.8% в сравнении со средними показателями респондентов, получивших низкие и средние баллы, аналогично, шкала отношений демонстрирует на 12.4% меньшие показатели в сравнении с усредненным результатом при низком и среднем уровне шкалы расстройства пищевого поведения. Снижение уровня «Непредвзятости» имеет линейную связь с ростом баллов шкалы расстройства пищевого поведения.
Вероятно, нежелание делиться проблемами и тем самым обращаться за помощью ведет к прогрессу болезни, и поэтому этот показатель резко снижен при высоких значениях по шкале расстройства пищевого поведения. Также при выраженности симптомов нездорового психического состояния снижается и критика к своему состоянию. Показатели шкалы «Отношений» также демонстрируют изолированность, в которой пребывают люди с расстройством пищевого поведения. Можно предположить, что при лечении пациентов с расстройством пищевого поведения необходимо направлять внимание на сферу аутентичности отношений, в которых личность сможет выстраивать честность и доверие с партнером, соприкасаясь со своим реальным «я» при поддержке другого.
Для анализа непосредственного вклада переменных в показатель по шкале баллов расстройства пищевого поведения, была построена линейная регрессионная модель, предикторами в которой выступали показатели «Желание и готовность обсуждать переживания», «Открытость новому опыту» и «Непредвзятость».
При помощи линейной регрессии было выявлено, что наиболее значимыми предикторами расстройства пищевого поведения являются низкий уровень «Желания и готовности обсуждать переживания», низкий уровень «Непредвзятости» и высокая «Открытость опыту», совокупный коэффициент детерминации составил 35.2%.
Последовательное вычисление вклада каждого предиктора в модель показывает, что высокие показатели расстройства пищевого поведения на 21.5% объясняется низким уровнем «Желания и готовности обсуждать переживания», на 9.21% низким уровнем «Непредвзятости». «Открытость опыту» при индивидуальном анализе оказалась незначимой, однако в совокупности с другими коррелятами ее вклад становится значимым.
Таблица 3. Оценка вклада показателей ЖиГОП, Непредвзятость, ОНО в ШРПП.
Предиктор | Коэффициент регрессии | R | R2 | F | р |
Критерий: Баллы по шкале РПП | |||||
ЖиГОП | -2.55 | 0.463 | 0.215 | 23.8 | <0,001 |
Непредвзятость | -7.15 | 0.304 | 0.092 | 8.83 | 0,004 |
ОНО | 1.20 | 0.166 | 0.028 | 2.26 | 0.120 |
ЖиГОП + Непредвзятость + ОНО | -2.65 -6.09 2.25 | 0.594 | 0.352 | 15.4 | <0,001 |
Основываясь на полученных результатах, можно предположить, что желание и готовность обсуждать переживания и непредвзятость в высокой степени обуславливают баллы шкалы расстройства пищевого поведения и вероятно могут выступать как в качестве детерминант развития заболевания, так и вносить вклад в прогрессирование болезни. Полученные экспериментальные данные о вкладе высокой открытости опыту согласуются с результатами исследования, согласно которым для булимии характерно высокое стремление к новизне [17]. Так, поиск нового опыта, который также может быть сопряжен с риском, свойственен более импульсивным личностям, которые прибегают к перееданиям и компенсаторному поведению.
Заключение
Таким образом, для людей с расстройством пищевого поведения характерно сниженное желание и готовность обсуждать проблемы, низкие непредвзятость и аутентичность поведения. У людей с высокими показателями расстройства пищевого поведения в отличие от людей с низкими и средними показателями уровень желания и готовности обсуждать переживания ниже на 45.8%, аутентичность отношений на 12.4%, непредвзятость снижается линейно относительно возрастания баллов расстройства пищевого поведения. Предикторами расстройства пищевого поведения являются сниженное желание и готовность обсуждать переживания, низкая непредвзятость в восприятии информации о себе и высокая открытость новому опыту, совокупный коэффициент детерминации составляет 35.2%. Высокие показатели расстройства пищевого поведения на 21.5% объясняется низким уровнем желания и готовности обсуждать переживания, на 9.21% низким уровнем непредвзятости.
Результаты этого исследования могут быть использованы в психотерапевтической практике в работе с расстройством пищевого поведения. Обращение внимания пациента на его аспекты аутентичности может быть полезным инструментом при разотождествлении болезни с истинным «я» личности, познание которого может привести человека к пониманию своих ценностей, утверждению своей значимости и создать пространство для личностного развития.
В перспективе дальнейшего исследования этой темы выборка может быть распределена на типа и подтипы расстройств пищевого поведения, чтобы можно было описать различия не только в паттернах поведения, но и в ощущении себя, мира и себя в мире.
Об авторах
Дарья Алексеевна Капишникова
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Автор, ответственный за переписку.
Email: dkapishnikova@mail.ru
Россия
Александр Константинович Гришин
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Email: ag@agriishin.ru
Список литературы
- Prevalence of eating disorders over the 2000-2018 period: a systematic literature review / M. Galmiche, P. Déchelotte, G. Lambert [et al.] // The American journal of clinical nutrition. 2019. Vol. 109. P. 1402-1413.
- Hoek H. W. Incidence, prevalence and mortality of anorexia nervosa and other eating disorders // Curr Opin Psychiatry. 2006. Vol.19. P. 389–394.
- Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders. A meta-analysis of 36 studies / J. Arcelus, A.J. Mitchell, J. Wales [et al.] // Archives of general psychiatry. 2011. Vol. 68. P. 724-731.
- Ahn J., Lee J. H., Jung Y. C. Predictors of Suicide Attempts in Individuals with Eating Disorders // Suicide and Life-Threatening Behavior. 2019. Vol. 49. P. 789-797.
- Steinhausen H. C. The outcome of anorexia nervosa in the 20th century // American Journal of Psychiatry. 2002. Vol. 159. P. 1284– 1293.
- Masheb R. M., White M. A. Bulimia nervosa in overweight and normal weight women // Comprehensive Psychiatry. 2012. Vol. 53. P. 181-186.
- Bulimia nervosa-nonpurging subtype: closer to the bulimia nervosa-purging subtype or to binge eating disorder? / J. Jordan, V. V. McIntosh, J. D. Carter [et al.] // Int J Eat Disord. 2014. Vol. 47. P. 231-238.
- Bruch H. The golden cage: The enigma of anorexia nervosa. Cambridge: Harvard University Press, 1978. 174 p.
- A prospective study of familial and social influences on girls' body image and dieting / L. Byely, A. B. Archibald, J. Graber [et al.] // Int J Eat Disord. 2000. Vol. 28. P. 155-164.
- Коркина М. В., Цивилько М. А., Марилов В. В. Нервная анорексия. М: Медицина, 1986. 176 с.
- Булимия – обманутые ожидания: феноменологическое понимание и экзистенциальный подход / А. Лэнгле, Б. Иобстель, Р. Катхан-Виндиш [и др.] // Экзистенциальный анализ. 2013. №. 5. С. 165-194.
- Appelbaum S. Psychological-mindedness: word, concept and essence // Int J Eat Disord. 1973. Vol. 54. P. 35-46.
- Farber B. A. The genesis, development, and implications of psychological-mindedness in psychotherapists // Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. 1985. Vol. 22. P. 170-177.
- Kernis M. H., B. M. Goldman A Multicomponent Conceptualization of Authenticity: Theory and Research // Advances in Experimental Social Psychology. 2006. Vol. 38. P. 283-357.
- Скугаревский О. А. Нарушения пищевого поведения. Минск: Белорусский Государственный Медицинский Университет. 2007. 340 с.
- Valbak K. Suitability for psychoanalytical psychotherapy: A review // Acta Psychiatrica Scandinavica. 2004. Vol. 109. P. 164-178.
- Temperament in eating disorders / C. M. Bulik, P. F. Sullivan, T. E. Weltzin [et al.] // Int J Eat Disord. 1995. Vol. 17. P. 251-261.
Дополнительные файлы