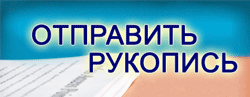ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО ОТДЕЛА МИНДАЛЕВИДНОГО КОМПЛЕКСА В РАЗВИТИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У САМОК КРЫС
- Авторы: Метлина Е.Д.1
-
Учреждения:
- Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
- Выпуск: № 2(25) (2024)
- Страницы: 90-98
- Раздел: Биология
- Дата публикации: 30.12.2024
- URL: https://vmuis.ru/smus/article/view/28047
- ID: 28047
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Целью работы в данной статье является влияние левого отдела миндалевидного комплекса на тревожность, исследовательскую и двигательную активности крыс в тест-системе «Открытое поле».
Наши исследования осуществлялись на 10 половозрелых самках крыс. Животные были разделены на две группы: экспериментальную и контрольную, по 5 особей в каждой и размещались в разных клетках. На первом этапе вода в поилках была заменена на 5% раствор спирта свободным доступом. На втором этапе проводилась операция амигдалоэктомии опытной группе. На момент регистрации предпочтений, животным на 1 неделю предоставлялось по 2 поилки: с водой и 5 % раствором спирта также со свободой выбора.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что крысы опытной группы после проведения операции амигдалоэктомии проявляли большую двигательную и исследовательскую активность и проявляли наименьшую тревожность по сравнению с контрольной группой. Данная разница отчетливо видна на 4 неделе, когда животным обеих групп крыс были предоставлены поилки с водой и спиртом со свободным доступом.
Таким образом, у животных с разрушенным левым отделом миндалевидного комплекса повышались исследовательская и двигательная активности, а проявление тревожности не было отмечено. Так происходит из-за изменения в обмене дофамина и серотонина в разрушенной амигдале и префронтальной коре мозга. Учитывая функцию серотонина в регуляции импульсивного поведения, а дофамина с положительным подкреплением, вероятно, разрушение миндалины нарушило регуляцию этих двух нейромедиаторов в префронтальной коре, что влияет на нигростиатальный путь. Данный путь, который влияет на двигательную активность, стимулируя ее, а также на процессы познания, вознаграждения и зависимости.
Ключевые слова
Полный текст
Миндалевидный комплекс (МК, corpus amygdaloideum) – часть лимбической системы головного мозга, выполняющая роль полисенсорного центра. Информация, анализируемая в нем, передается на висцеральные стволы мозга и его высшие отделы – зрительный бугор, неокортекс [1, 2].
МК мозга человека располагается вблизи с медиальной поверхности височной доли. Так как ядра МК близко расположены к древней коре, данная область называется переамигдалоидной. Так МК человеканаходится на границе с нижней и медиальной поверхностями переамигдалоидной и энторинальной областью коры. Снаружи миндалевидный комплекс соприкасается с белым веществом височной доли, а наверху с чечевичный ядром и нижнем краем ограды. Доходит же с задней части до нижнего рога бокового желудочка, а у вершины этого рога подходит вплотную к гиппокампу [3]. (Рис.1).
Рисунок 1 - Расположение миндалевидного комплекса в головном мозге человека [4]
Формирование миндалевидного комплекса происходит в несколько этапов одновременно с кортикализацией головного мозга позвоночных. В связи с этим выделяется древняя, старая и новая кора, что и объясняет выделение комплексов палеоамигдалы, архиамигдалы и неоамигдалы [4, 5].
Функции МК связаны с обеспечением оборонительного поведения, вегетативными, двигательными и эмоциональными реакциями, мотивацией условнорефлекторного поведения. [5].
Совместная работа ядер МК способна играть защитную функцию – так, неприятный вкус или запах заставляет человека испытывать негативные эмоции и держаться подальше от того, что их вызывает – испорченной пищи, которой можно отравиться, или отходов жизнедеятельности, в которых могут находиться опасные бактерии. В зависимости от расположения, миндалевидное тело формирует разные эмоции. Электрические раздражения правой миндалины вызывают отрицательные эмоции, особенно страх и печаль. В противоположность, стимуляция левой миндалины может вызывать как приятные (счастье), так и неприятные (страх, тревога, печаль) эмоции [6].
Миндалина также играет роль в процессах поощрения и тревожности. При поврежденном центральном ядре у животного теряется интерес к поощрению. Поврежденная полностью миндалина снижает способность реагировать на изменение ценности вознаграждения и приводит к неправильному поведению [7].
В результате удаления МК наблюдаются эффекты повышения чувствительности ГАМКА-рецепторов к ГАМК под воздействием бензодиазепинов увеличивается частота открытия хлорных каналов, в результате большее число отрицательно заряженных ионов хлора поступает внутрь нейрона, что приводит к гиперполяризации нейрональной мембраны и развитию тормозных процессов. Бензодиапин облегчает передачу через ГАМКергическую систему, участвующую в формировании памяти. ГАМК играет важную роль в миндалине, являясь одним из компонентов тормозных цепей, осуществляет баланс между возбуждением и торможением. Нарушение ГАМКергического торможения в базолатеральном ядре может привести к повышенной тревожности и депрессии, а также к судорожной активности [7, 8].
Алкоголь является самым распространенным в мире ксенобиотиком. Несмотря на многолетние исследования на разных моделях экспериментального алкоголизма, сегодня нельзя говорить о какой-либо однозначной связи биологических или социальных факторов и развития зависимости. Феномен психической зависимости от алкоголя (1-ая стадия алкоголизма) - нарушения биохимических процессов в ЦНС, индуцируемые избыточными концентрациями ацетальдегида. Ацетальдегид в 30 раз токсичнее этанола (его минимальная смертельная доза в 30 раз ниже таковой для этилового спирта). Однако ацетальдегид чрезвычайно легко реагирует с аминогруппами аминов вообще и биогенных аминов в частности. В последнем случае возможно образование тетрагидроизохинолиновых производных (ТГИХ) – сальсолинола и тетрагидропапаверина (ТГП), относящихся к группе эндогенных морфиноподобных веществ (эндорфинов). Эти вещества обладают морфиноподобной активностью и, кроме того, являются субстратом для образования других, еще более активных морфиноподобных соединений. Именно эти вещества воздействуют на опиатные рецепторы гипоталамического "центра удовольствия", индуцируя эйфорию при приеме алкоголя и формируют патологическую привязанность к нему [9].
Развитие физической зависимости от этанола, начинающей проявляться со второй стадии хронического алкоголизма, обусловлено прогрессированием двух тесно взаимосвязанных процессов: повышением толерантности к этанолу и развитием абстинентного синдрома. Так, например, уровень тревожности может влиять на развитие алкогольной зависимости. В ходе множества работ с экспериментальным алкоголизмом ученым удалось узнать, что не сама тревога вызывает предпочтение в алкоголе, а ответ на стрессовую реакцию (возбуждение или торможение). Поэтому в зависимости от ответа, например, в результате возбуждения у крыс, сопровождаемых с повышением уровня тревожности, скорее разовьется алкогольная зависимость [9].
Условия и методы исследования
Исследование выполнено в соответствии с нормами биоэтического отношения к лабораторным животным, протокол эксперимента утвержден на заседании комиссии по научной этике биологического факультета Самарского университета. В эксперименте было задействовано 10 половозрелых самок крыс. Животные были разделены на две группы: экспериментальную и контрольную, по 5 особей в каждой и размещались в разных клетках. На время эксперимента, вода в поилках была заменена на 5% раствор спирта свободным доступом. При определении концентраций этанола и сроков проведения принудительной алкоголизации мы опирались на данные работы авторов [6], которые показали, что 6% водный раствор этанола, потребляемый крысами в течение двух недель, приводит к изменениям в обмене дофамина и серотонина в амигдале и префронтальной коре мозга. Операция проводилась под уретановым наркозом (1,0 г/кг), введенным внутрибрюшинно. Голову животного помещали в головодержатель стереотаксического прибора (фиксация трех точек: верхняя челюсть и ушные проходы). Шерсть на дорсальной поверхности головы выстригали ножницами Купера. Далее делали кожный разрез и удаляли мягкие ткани. Обезболив надкосницу и близлежащие ткани аппликацией лидокаином, удаляли надкосницу и отмечали точку брегма. Затем помещали животное в стереотаксический прибор и проводили разметку черепа по координатам атласа P= 2,4 мм; L= 5,0 мм; V= 8,5 мм от брегмы - для переднего левого отдела миндалевидного комплекса (Paxions, Watson, 1986).
После установления необходимого места производили высверливание трепанационного отверстия с помощью бора. В отверстие вводили изолированный на всем его протяжении электрод. Индифферентный электрод закрепляли на ухе животного. Производили разрушение центрального отдела миндалины током 1мкА в течении 10 секунд при помощи стимулятора постоянного тока Б5 – 44 Активный электрод при этом соединяли с анодом, а катод - с кожей крысы. После электрокоагуляции аккуратно изымали электрод из головного мозга крысы. Трепанационное отверстие замазывали зубным цементом, на кожу накладывали лигатуру, обрабатывали и дополнительно фиксировали клеем БФ-6. Затем каждая крыса находилась под наблюдением до момента пробуждения и несколько часов после, чтобы убедиться, что животное нормально перенесло операцию. На протяжении 7 дней нами осуществлялись послеоперационные наблюдения за животным.Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета программ SigmaPlot, Microsoft Excel с применением критериев Стьюдента. Статистически значимыми считали различия при p < 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
На рисунках 2-5 представлены общие результаты прохождения теста «Открытое поле» крысами до употребления 5% раствора спирта и после этого на протяжении 4 недель. Для оценки двигательной активности, исследовательской активности и тревожности животных тестировали в установке «Открытое поле». Крысы опытной группы после проведения операции амигдалоэктомии проявляли большую двигательную и исследовательскую активность и проявляли наименьшую тревожность по сравнению с контрольной группой. Данная разница отчетливо видна на 4 неделе, когда животным обеих групп крыс были предоставлены поилки с водой и спиртом со свободным доступом.
На основании результатов данной таблицы (табл. 1), мы можем сделать вывод, что крысы контрольной группы, на неделе со свободным доступом к поилкам с 5% раствором спирта и обычной водой, охотнее предпочитали спирт воде, а именно почти в 2 раза. Однако опытная группа, после операции амигдалоэктомии, повела себя наоборот. Животные с разрушенной амигдалой почти в 2,5 раза охотнее выбирали воду, а не спирт.
Таблица 1
Предпочтение потребления спирта и воды у контрольной и опытной групп
Значительно снизилась вертикальная активность у контрольной группы на 4 неделе эксперимента (р≤0,001) по сравнению с 1 и 2 неделей (на 99%). Так, исследовательская активность в опытной группе на 4 неделе оказалась в среднем 9,4, а у контрольной 0,2. Это означает, что исследовательская активность экспериментальной группы практически на 97% (р=0,01) выше, чем в контрольной группе (табл. 2, рис. 2).
Таблица 2
Вертикальная двигательная активность у контрольной и экспериментальной групп спустя 4 недели после амигдалоэктомии
Рисунок 2 – Изменение количества вертикальных стоек в тесте Открытое поле контрольной и экспериментальной групп в разные периоды исследования
Символом (#) отмечены статистически значимые различия в пределах группы при ## Р≤0,01; ### р≤0,001.
Звездочками (*) отмечены статистически значимые различия между контрольной и опытной группой при *** р≤0,001.
Крысы опытной группы на 4 неделе большее количество времени (в среднем на 85%, (р=0,01), по сравнению с контрольной, исследовали количество секторов в открытом поле. У крыс контрольной группы наблюдался дефицит исследовательской активности: количество пройденных секторов был равен в среднем 8 и был на 78% и на 76% ниже по сравнению с 1 и 2 неделей соответственно (р≤0,001). В опытной группе, где средний показатель равнялся 52,4 на 4 неделе в целом, отмечается усиление двигательной и исследовательской активности на фоне относительно низкого уровня тревожности по сравнению с 1 и 2 неделей (на 33% и 29%) при р=0,01 (табл. 3, рис. 3).
Таблица 3
Количество пересеченных секторов у контрольной и экспериментальной групп спустя 4 недели после амигдалоэктомии в «Открытом поле»
Рисунок 3 – Количество секторов, пройденных в тесте Открытое поле контрольной и экспериментальной групп в разные периоды исследования
Символом (#) отмечены статистически значимые различия в пределах группы при ## Р≤0,01; ### р≤0,001.
Звездочками (*) отмечены статистически значимые различия между контрольной и опытной группой при ** р≤0,01.
На 4 неделе эксперимента у животных опытной группы наблюдался довольно резкий спад исследовательской активности на 77% по сравнению с 1 неделей и на 73% по сравнению со второй. Контроль также значительно снизился по сравнению с 1 и 2 неделей на 91%. Однако мы можем отметить, что среднее количество исследуемых отверстий опытной группой (2,4) на 4 неделе значительно больше, чем у контроля (0,8), а именно на 67% (р=0,035) (табл. 4, рис. 4).
Таблица 4
Количество исследуемых отверстий у контрольной и экспериментальной групп спустя 4 недели после амигдалоэктомии в «Открытом поле»
Рисунок 4 – Количество отверстий, исследуемых в тесте Открытое поле контрольной и экспериментальной групп в разные периоды исследования
Символом (#) отмечены статистически значимые различия в пределах группы при ## Р≤0,01; ### р≤0,001.
Звездочками (*) отмечены статистически значимые различия между контрольной и опытной группой при ** р≤0,01.
Значительный скачок эпизодов груминга отчетливо виден у контрольной группы на 4 неделе, что говорит о повышении уровня тревожности.А именно на 91% по сравнению с 1 неделей и на 86% по сравнению со 2 неделей. Также по сравнению с опытной группой, которая имеет примерно одиноковое количество эпизодов груминга, контроль на 4 неделе выше на 91% (табл. 5, рис. 5).
Таблица 5
Изменение количества проявлений тревожного груминга у контрольной и экспериментальной групп спустя 4 недели после амигдалоэктомии в «Открытом поле»
Рисунок 5 – Изменение количества проявлений тревожного груминга в тесте Открытое поле контрольной и экспериментальной групп в разные периоды исследования
Символом (#) отмечены статистически значимые различия в пределах группы при ### р≤0,001.
Звездочками (*) отмечены статистически значимые различия между контрольной и опытной группой при *** р≤0,001.
Выводы
Таким образом, в работе на основании анализа результатов проведенного эксперимента с лабораторными крысами в тесте «Открытое поле можно сделать вывод, что длительное употребление алкоголя приводит к формированию аддиктивного поведения по отношению к этиловому спирту. Также на вышеприведенных данных четко просматривается абстинентный синдром у крыс контрольной группы на 4 неделе, а именно повышение тревожности и снижение двигательной и исследователькой активностей. У животных же опытной группы проявление абстинентного синдрома не было замечено, как и отсутствовало предпочтение алкоголя после операции по разрушению левого отдела миндалевидного комплекса. У прооперированных животных повышались исследовательская и двигательная активности, а проявление тревожности не было отмечено. Так происходит из-за изменения в обмене дофамина и серотонина в разрушенной амигдале и префронтальной коре мозга. Учитывая функцию серотонина в регуляции импульсивного поведения, а дофамина с положительным подкреплением, вероятно, разрушение миндалины нарушило регуляцию этих двух нейромедиаторов в префронтальной коре, что влияет на нигростиатальный путь. Данный путь, пролегает в головном мозге и соединяет черную субстанцию компактную часть в среднем мозге с дорсальным полосатым телом (т. е. хвостатым ядром и путаменом) в переднем мозге. Нигростриатальный путь влияет на двигательную активность, стимулируя ее, а также на процессы познания, вознаграждения и зависимости. Возможно, данные изменения привели к компенсаторным механизмам, которые способствуют более рациональному выбору воды и к увеличению двигательной активности у животных опытной группы.
Об авторах
Евгения Дмитриевна Метлина
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Автор, ответственный за переписку.
Email: mozartello6@gmail.com
Россия, 443086, Россия, Самара, ул. Московское шоссе,34
Список литературы
- Акмаев, И.Г. Миндалевидный комплекс гонадэктомированных крыс, реакция нейронов кортикомедиального отдела / И.Г. Акмаев, Л.Б. Калимуллина // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1982. Т. 83. № 12. С. 48-59.
- Ахмадеев А.В., Калимуллина Л.Б. Миндалевидный комплекс – ядерно-палеокортикальный компонент мозга // Успехи современного естествознания. 2007. № 11. С. 11-14
- Роль миндалевидного тела в социальном поведении [Электронный ресурс]. - URL: https://biomolecula.ru/articles/rol-mindalevidnogo-tela-v-sotsialnom-povedenii. (дата обращения 12. 03. 2024)
- Koikegami, H. Amygdala and the other releted limbic structures. Anatomical researches with some neurophysiological observations / H.Koikegami // Acta med. biol. 1963. Vol. 10. P. 161 – 277.
- Lanteaume, L. Emotion induction after direct intracerebral stimulations of human amygdala // Cerebral Cortex : journal. 2007. vol. 17. no.6. P. 1307 - 1313.
- Ахмадеев А.В., Калимуллина Л.Б. Миндалевидный комплекс мозга в механизмах алкогольной зависимости // Успехи физиол. наук. 2016. V. 47. № 2. С. 27–44.
- Базян А.С., Рогаль А.В. Нейрохимические механизмы возникновения потребности, мотивации и целенаправленного поведения // Успехи физиол. Наук. 2015. V. 46. № 1. С. 3–21.
- Ахмадеев А.В., Калимуллина Л.Б. Нейробиологические основы девиантного поведения при алкоголизме // Вестник Башкирского университета. 2015. Т. 20. № 2. С. 444–447.
- Henniger M.S., Spanagel R., Wigger A., Landgraf R., Hölter S.M. Alcohol self-administration in two rat lines selectively bred for extremes in anxiety-related behavior // Neuropsychopharmacology. 2002. Vol. 26. № 6. P. 729–736.
Дополнительные файлы