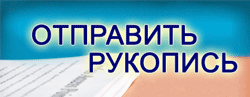НАРРАТИВИЗАЦИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА З. ПРИЛЕПИНА «ПАТОЛОГИИ»)
- Авторы: Мамедова Д.П.1, Нечаева Е.А.1
-
Учреждения:
- Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва
- Выпуск: № 1(24) (2024)
- Страницы: 82-86
- Раздел: Литературоведение
- Дата публикации: 31.12.2024
- URL: https://vmuis.ru/smus/article/view/27496
- ID: 27496
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель работы – выявить способы нарративизации травматических событий в эстетическом дискурсе (на примере романа З. Прилепина «Патологии»).
Результатом исследования стало выявление способов нарративизации травматических событий, выявление приемов, позволяющих артикулировать травматический опыт героя в эстетическом дискурсе.
Исследование вписывается в научную парадигму и традицию trauma studies.
Подходы, в рамках которых проводится исследование, – структуралистская нарратология («классическая нарратология» Шмидта), когнитивная нарратология, аффективная нарратология, фрейм-анализ и фреймовая семантика.
Полный текст
Данное исследование вписывается в парадигму trauma studies, или аналитики травмы, «представляющую собой один из междисциплинарных способов номинализации, говорения о событиях заведомо болезненных и зачастую закрытых от прозрачной манифестации и артикуляции» [1, с. 59]. Научная проблема, решаемая в рамках исследования на материале романа З. Прилепина «Патологии», — проблема репрезентации травматического опыта в условиях отсутствия т.н. «дискурса травмы» per se. Объектом исследования становится, таким образом, особое дискурсивное пространство индивидуальной и коллективной травмы.
В ходе исследования репрезентации травмы, а именно особенностей вербализации, артикуляции и манифестации травмирующего события (т.к. осмысление и проживание травмы осложнено отсутствием соответствующих «инструментов» речи, искажением памяти, защитными механизмами психики и проч.), мы выделили следующие способы и инструменты репрезентации травматического опыта в романе Захара Прилепина «Патологии».
Для передачи травматического опыта, который невозможно осмыслить, встроить в картину мира, дать ему язык, главный герой, Егор Ташевский, обращается к безопасному и знакомому опыту: «У него прострелена щека, а на груди будто разбита банка с вареньем, – чёрная густая жидкость и налипшее на это месиво стекло с лобовухи» [2, с. 25]. Причем, как правило, «безопасное», через которое мыслится страшное, – это безопасное из детства.
Если обратить внимание на восприятие телесности, нельзя не отметить, что сознание героя стремится отыскивать разные концептуальные схемы для описания атрибутов живого и атрибутов мёртвого: «Астахов подходит в упор к трупу, присаживается возле того, что было головой, разглядывает» [2, с. 37]. Примечательно, что «то, что было головой» так названо не только потому, что физический облик изуродованной головы не похож на голову вообще, но и потому, что эта часть тела есть только у живых. То, что являлось частью живого (голова), – уже не может быть описанным теми же словами. Иногда в trauma studies catastrophe говорят о том, что у живого есть составные части, а у мертвого есть только целостность – он труп.
Явно обнаруживаются две тенденции проговаривания травмы:
- табуирование – сознание не может вообще артикулировать страшное, отказывается от проговаривания травматического опыта («После похорон я пришел домой, поставил кипятить чай, взялся подметать пол. Потом бросил веник и под дребезжанье ржавого чайника, написал на стене "господи блядь гнойный вурдалак": я вспомнил, как пишется буква "в"» [с. 15]);
- вербигерация – наоборот, многократное автоматическое повторение одних и тех же слов («Понимаю, что он умер, он мёртв, мёртв» [2, с. 91]; «До-мой, до-мой, до-мой…». [2, с. 61]; «один человек будто бы… Да, один. "Один, один, один, один…"» [2, с. 61]).
Эти две тенденции обнаруживаются и в исследованиях травмы на материале аудиозаписей реальных жертв травматических событий. В эстетическом дискурсе Прилепин использует эти нарративные стратегии для элементы текста нарратора.
Следующая особенность считывается через использование эналлаги: «Я вижу Стёпу Черткова, с деформированной, мертвой головой» [2, с. 102]. Определение «мертвый» относится не к человеку в целом, а к его части – к голове. Сознание стремится перенести пугающие и нежелательные свойства со всего объекта на отдельный атрибут этого объекта, потому что перенесение свойства на весь объект сделает это свойство конституирующим, определяющим.
Сходно работает метонимическое мышление: «Всё моё нутро дрожит и ноет, тщедушная моя душа готова сойти на нет, стать пылью…» [2, с. 125] – душа воспринимается как бы отделенной от «я» Ташевского. Боец отчуждается от страха, переносит его на его «тщедушную душу».
Следует обратиться к тому, как вообще конструируется понимание происходящих военных событий, какими категориями мыслит герой.
Герой себя фреймирует как объект, а не субъект действий: «С удивлением смотрю на грязные, выщербленные стены, - куда меня занесло, а? Сидел бы сейчас дома, никто ведь не гнал» [2, с. 10]; «Зачем я всё-таки сюда приехал?… Ладно, хорош… Ничего ещё не случилось…» [2, с. 11]. Стоит обратить внимание на слово «занесло» – личный глагол в безличном значении. На уровне языка это этап, в рамках которого герой пытается найти ту инстанцию, которая ответственна за его нынешний опыт, но при этом он упоминает, что его никто и не «гнал». Ташевский пытается рационализировать свой опыт – мыслить категориями цели, причинности (каузальности).
Еще одним способом упорядочивания является объективация субъективного: «И чего мы бежим? Можно было доползти ведь. Куда торопимся? Цокнет, и прямо в голову. Или не меня?…» [2, с. 22–23]. В этом фрагменте есть попытка рационализации событий: герой мыслит категориями цели («куда», «зачем»), проявлена каузальность для оформления событий, мало поддающихся рационализации. Герой пытается «по полочкам» разложить происходящее (а это происходящее усиленно сопротивляется рационализации – оно не вмещается в логичные схемы детерминации и каузации).
Однако когда невозможна интерпретация (событие не может быть вписано в картину нормального, в символическую структуру), то ее заменяет констатация: «Мы сегодня лишили жизни восемь человек» [2, с. 27]. Невозможно выстроить иерархии, причинно-следственные связи, можно только называть явления, но не осмыслять, не интерпретировать. «Старые» символические структуры и представления о нормальном уже невозможны.
Интересным является то, как меняется понимание и структура повседневного (прошлой нормы), когда есть новый опыт. Герой, пребывающий в ситуации травмы, вынужден как-то помыслить свою повседневность в контексте этого травматического события.
В структурах повседневности происходят два разнонаправленных процесса:
1) нормализация, рутинизация и оповседневливание ненормального: травма пытается встроиться в структуры повседневности, вписаться в символическую структуру и картину мира субъекта. Ненормальное необходимо как-то вписать в структуру мира и структуру мышления, найти ему «когнитивные ячейки»: «Мы сегодня лишили жизни восемь человек. Пойдем-ка, Саня, спать» [2, с. 27]. В этом фрагменте в рамках одного, по сути, высказывания героя оформляются мысли об убийстве людей и о необходимости пойти спать. Их соположение наделяет и сами эти явления статусом рядоположных. Травматическое событие (убийство) встраивается в структуру повседневности. Стоит обратить внимание и на то, что упоминание травматического (ненормального) носит характер констатации (если опыт нельзя осмыслить, его стоит хотя бы номинализировать).
Есть в романе и более сложные конструкции: «Завтрак приготовил боец по кличке Плохиш, назначенный поваром. Макароны с тушенкой, всё как у людей. Компот» [2, с. 12]. Ташевский идентифицирует себя как человека, находящегося в ситуации травмы, поэтому привычные, рутинные ритуалы, которые создают ощущение, что все хорошо (а в остальное время все вокруг ощущается как хаос и разрушение), выхватываются сознанием как чужеродные. На любой «норме» делается акцент: «все как у людей». Даже когда травма не проговорена, она существует как некая минус-травма: Ташевский сравнивает свой уклад жизни с укладом «нормальных» людей; из этого ясно, что ситуация как бы ненормальна. Здесь четко видно принятие героем «новой нормы» и сопоставление ее со старой (по-настоящему нормальной). Военные условия вписываются в норму, осознаются как ее часть.
2) осмысление и вербализация невозможности «прежнего нормального»: из-за травмы невозможным становится то, что раньше делалось автоматически и нерефлексивно. Нормальное (настоящее нормальное) становится невозможным после опыта ненормального: «утром, к моему удивлению, мы проснулись, с гоготом умылись и, <…> рассевшись по кроватям, стали есть» [2, с. 12]. Рутинные действия, раньше воспринимавшиеся как норма, не вписываются в новую картину жизни (герой удивляется тому, что в такой обстановке, когда стерлись все ориентиры, по-прежнему существует быт: пробуждения, умывания и завтраки). Нормальное, повседневное как бы не вписывается в ситуацию травмы.
Особенно ярко это иллюстрирует следующий фрагмент: «Взял книгу, но ничего в ней не понял. "Как можно какие-то книги писать, когда вот так вот живого человека могут убить. Меня. Да и какой смысл их читать. Глупость. Бумага"» [2, с. 57-58]. Прежнее нормальное уже немыслимо: травма перекрывает собой все остальное, и повседневность не может существовать неизмененной.
В связи с этим особый интерес представляет «военное повседневное» – то, что связано с военным бытом.
В романе важное место занимает процесс чистки оружия: «чищу автомат, нравится чистить автомат. Нет занятия более умиротворенного» [2, с. 37]. О том, что процесс чистки оружия является успокаивающим и метидативным, свидетельствует и фактографичность описания действий Ташевского. Он фиксирует свое внимание на механических, автоматизированных, простых и понятных действиях: «отсоединяю рожок, передергиваю затвор <...> Снимаю крышку ствольной коробки, аккуратно кладу на стол» [2, с. 37]. Таким образом он будто утверждает свой контроль: хотя бы оружие ему подвластно, оно полностью во власти Егора, надежное и предсказумое. Происходит объективизация оружия и его деконтекстуализация. Сознание воспринимает оружие не как орудие убийства, а как набор винтиков, болтиков, то есть как некоторый физический объект. При этом сознание дистанцируется от оформления смысла и назначения этого объекта. Это подтверждает и следующий фрагмент: «Любовно раскладываю принадлежности пенала: протирку, ёршик, отвертку и выколотку» [2, с. 37]. Ташевский абстрагируется от использования автомата и концентрирует свое внимание на его предметности. Части механизма вызывают умиление, так как в разобранном виде автомат перестает восприниматься как оружие, орудие убийства, это скорее детали конструктора.
Чистка автомата – некий ритуал в структуре новой повседневности: «Автомат можно чистить очень долго. Практически бесконечно. Когда надоедает, можно на спор найти в автомате товарища грязное местечко» [2, c. 37-38]. Для Ташевского это не обслуживание оружия для того, чтобы оно исправно выполняло свои функции, а целый процесс, суть которого заключается в абстрагировании от травмы и методичной автоматизированной деятельности, которую он к тому же метафорически переносит на простые и приятные образы.
Нельзя не отметить некоторую эротизацию процесса чистки автомата: «Большим куском ветоши, щедро обмакнув его в масло, прохожусь по всем частям автомата. Так моют себя. Свою изящную женщину. Так, наверное, моют коня. Или ребёнка» [2, с. 38]. Мы можем убедиться в том, что телесность действительно является центральным конструктом сознания Егора, доминантой художественного мира романа. Здесь это представлено особенно ярко: автомат мыслится как тело. Причем либо эстетически воспринимаемое тело («изящная женщина», грациозный конь), либо как тело, к которому относятся очень бережно и нежно (свое собственное, ребенка). Это четко прослеживается и в следующем фрагменте: «Как крайнюю плоть, приспускаю возвратную пружину, снимаю шляпку с двух тонких грязных жил» [2, с. 38]. Оружие сравнивается как с мужской, так и с женской телесностью. Эротизация и сексуализация являются одной из особенностей восприятия героя.
Вероятно, через образы, связанные с сексом, Ташевский пытается осмыслить элементы травмы. Принять и вписать в нормальную картину мира постоянный контакт с оружием сложнее, чем перенести эту связь на образы, ассоциирующиеся в первую очередь с довоенной жизнью. Примечательно, что большинство случаев эротизации чего-либо в романе связано именно с военными атрибутами.
Показательной является номинализация этих атрибутов бойцами. В основном, что неудивительно, герои используют реальные наименования военных атрибутов в усеченной, укороченной и адаптированной форме: например, «броник» вместо «бронижилет». Дистанция между героями и этими предметами снижается: «броник» ближе бойцам, чем «бронежилет», проще для восприятия, так как связь предмета с его применением (защита от ранения и смерти) ослабевает. «Броник» в какой-то степени становится всего лишь атрибутом быта. Также и «гранаты, похожие на обмороженные гнилые яблоки» [2, с. 15-16], и вертолет, который напоминает корову («в нашу "корову" загружаются питерские "собры"» [2, с. 6]). Самолет и вертолет, которые доставили героев на войну, деконтекстуализируются: Ташевский обращает внимание лишь на внешний вид транспорта и сопоставляет его с животными («"борт" похож на акулу, вертушка – на "корову"» [2, с. 5]). Воспринимать суть слишком тяжело, а сосредоточиться на внешнем просто и относительно комфортно; таким образом происходит абстрагирование от травмы.
Об авторах
Динара Парвизовна Мамедова
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва
Автор, ответственный за переписку.
Email: mamedinara02@gmail.com
Россия
Екатерина Андреевна Нечаева
Email: nechaeva.ea.2@ssau.ru
кандидат филологических наук, доцент
РоссияСписок литературы
- Суверина, Е. Trauma studies: История, репрезентация, свидетель [Текст] / Мороз О., Суверина Е. // Новое литературное обозрение. 2014. № 125. С. 59–74.
- Прилепин, З. Патологии [Текст]: роман/ Захар Прилепин. – М.: АСТ: ред. Е. Шубиной, 2016. – 138 с.
Дополнительные файлы