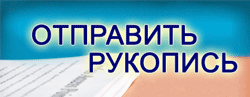«Cуперпозиция героя» в поэме В. Ерофеева «Москва – Петушки»
- Авторы: Никонов Н.А., Нечаева Е.А.1
-
Учреждения:
- Самарский университет
- Выпуск: № 2 (17) (2020)
- Страницы: 6-10
- Раздел: Литературоведение
- Дата публикации:
- URL: https://vmuis.ru/smus/article/view/9243
- ID: 9243
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В данной статье исследуется принцип «суперпозиции героя» в художественном произведении, опирающемся на принципы постнеклассической эстетики. Показано, как принцип суперпозиции, взятый из области квантовой физики, способен выявить не только специфику позиции героя в изображаемом мире, но и особенности возможной интерпретации художественного текста. Также в статье продемонстрировано существенное отличие модели «суперпозиции» от концепции «мерцающего субъекта». Далее приводится описание влияния принципа «суперпозиции» на построение отношений автор-герой-реципиент: автор теряет свойство абсолюта, окончательно оформляющего целостность художественного мира произведения, а реципиент получает возможность задать верный в пределах собственной аксиоматики вариант интерпретации художественной реальности.
Ключевые слова
Полный текст
Поэма В. Ерофеева «Москва – Петушки» – текст, для которого осмысление через категориальный аппарат классического литературоведения (классической научной парадигмы) недостаточен в силу отсутствия в тексте центра, организующего единственную интерпретацию произведения. Для поэмы, как будет показано, характерны существование верных только в пределах собственной аксиоматики моделей интерпретации и одновременность взаимоисключающих трактовок в рамках одного варианта осмысления текста. Мы предлагаем введение термина, описывающего специфику субъектной сферы текста такого типа, — «суперпозиция героя». Термин взят из квантовой физики; квантовая «суперпозиция» предполагает сосуществование альтернативных (взаимоисключающих) состояний одновременно. Принципиально важное для героя отсутствие фиксации в одной точке интерпретации, определяемое множественностью реальностей, задает сосуществование антиномий, верных в пределах автономных трактовок текста.
Квантовая суперпозиция отвергает возможность видения взаимоисключающих состояний в пределах линейного развертывания пространственно-временных отношений. «Суперпозиция героя» формирует множественность смыслов, а также предполагает разворачивание нескольких одновременно существующих реальностей, в рамках каждой из которых герой вступает в оппозиции и заданные интерпретатором отношения.
С целью обоснования многоуровневого построения художественных реальностей, задающих отсутствие доминанты в истолковании образа главного героя, мы выявили специфические черты структурной организации поэмы В. Ерофеева «Москва — Петушки». Так, пространственно-временной уровень текста был разделен на подуровни. На первом подуровне (мы обозначили его как «линейный») существует жесткая детерминированность: пространство и время «закреплены» за объектами (Кремль, Курский вокзал, Петушки), определяющими вектор движения и «сужающими» пространство до «топологической точки». Герой имеет способность отчетливо помнить только то событие, которое было совершено в определенном месте: «… Я отчетливо помню, что на Улице Чехова выпил два стакана зубровки…», «…Но ведь не мог я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив?.. Не мог…» [1, с. 17]. Такое «разделение» пространства на предельно сжатые точки-локусы, в рамках которых происходит напряженная рефлексия героя, задает дискретное развертывание целостных пространственно-временных отношений. Дискретность, в свою очередь, формирует мнимость локуса, окружающего точку. Реципиент не знает, что творится вокруг Кремля, Савеловского вокзала, перрона, поезда. Читатель «вместе с Веничкой» занят переживаниями и рассуждения по поводу «хорошей и тяжелой люстры», которая «…сорвется и упадёт кому-нибудь на голову…» [1, с. 21]. На циклическом подуровне поэмы в результате развертывания детерминированных пространственно-временных отношений, переходящих в замкнутую кривую, которая, в свою очередь, задает переход от динамики события в поэме к его статике, наблюдаемая фаза циклического времени становится равной настоящему моменту линейного времени. Так, статика циклического развертывания события в момент равноправия с детерминированным событием задает одновременность существования фазовых моментов времени, что говорит о «множественных событиях, верных в пределах собственной аксиоматики» [2, с. 58]. Таким образом, мнимость пространства, сформированная с помощью дискретности, заданной, в свою очередь, «сужением окружающего мира до топологической точки», существующая в одновременном развитии фазовых моментов времени, задает постулированную множественность реальностей, существующих одновременно и независимо друг от друга.
На лексическом уровне текста обращение к «гибридно-цитатному языку-полиглоту в форме пастиша» [3, с.170], порождающему «вторичную коннотацию» [3, с.171], «задает пространство смысловой множественности» [3, с.171] поэмы. Семиотическое разнообразие смысла, бытующего в рамках данного произведения, воплощается через призму всевозможных истолкований ученых-филологов, многие из которых противоречат друг другу. Так, в интерпретации С. Чуприна «Москва – Петушки» – «…исповедь простодушного алкоголика, оказывающаяся далеко не частной исповедью советского андеграунда». «Поэма проникнута пафосом социальной критики сквозь растабуированную стихию так называемой низовой культуры – «…я плюю на вашу общественную лестницу…», «…на каждую ступеньку по плевку…» [1, с.148]. Противоположный вариант трактовки находим у П. Вайля и А. Гениса, утверждающих «утопическую суть» произведения В. Ерофеева. Иными словами, по Вайлю и Генису, реципиентом разворачивается не образ опустившегося наивного алкоголика, исповедующегося в поезде, а некий вариант пророка, «прозревающего сущность вещей» через алкоголь – «…трезвость в этом мире аномалия, пьянство – закон, а Веничка пророк его…» [4, с.200]. С точки зрения Н. Верховцевой-Друбек, «…Веничкины состояния: «похмелье», «алкогольная горячка», «смерть» – полная драматизма пародия на Страсти Господни. Веничкина алкогольная философия эквивалентна философии страдания, присущей русскому народу (перекличка с трактовкой Чуприна – комм. мой. Н.Н.), как бы повторяющему в своей судьбе Страсти Христа…» [3, с.150]. Верховцева-Друбек утверждает «смысловую упорядоченность поэмы», ее «выверенный и целостный мир трагического переживания» героя среди «апокалипсического мира»: Веничка противостоит «темному царству хаоса» [5, с. 88]. Противоположный вектор высказывания зафиксирован в анализе текста «Москвы – Петушков», проделанном Н. Живолуповой. Так, «…философские установки Венички определяют контркультуры, уход в царство темной меонической свободы, где пьянство – средство сделать себя нечувствительным к воздействию действитель-ности… Фабульный ряд – события жизни героя суть выражение внутреннего хаоса, бессмысленного бытия. «…Этическая перспектива христианского преображения…» [3, с.151], заключенная в «философии» главного героя, разрушается под «шквалом пародийного переосмысления». «…Веничка – неупорядоченная, хаотическая величина, принадлежащая ужасному миру хаоса…»[3, с 152]. Таким образом, исходя из анализа многочисленных противоположных и справедливых в пределах собственной логики интерпретаций текса поэмы В.Ерофеева, состоящего из «гибридно-цитатного языка-полиглота», мы можем утверждать факт многоуровневой вариации культурных кодов, которые, несмотря на общий релятивизм знаковых систем, имеют самоценную и автономную семиотическую нагрузку.
В субъектной сфере произведения мы обнаружили следующие особенности героя. Веничка как иконический знак, содержащий в себе многоуровневую эстетическую реальность, вступает в такие оппозиции, как «Веничка – Христос», «Веничка – Раскольников», «Веничка – князь Мышкин, Веничка – юродивый, Веничка – царевич Дмитрий, Веничка – Иван Козловский, Веничка – Младенец, знающий букву «Ю», и. т. д. Подобные оппозиции, существующие между различными эстетическими реальностями на протяжении всей поэмы, способны отсылать «знак – образ» главного героя к другим персонажам произведения. Так, структуры образов Венички и Митрича-младшего роднит идиотизм – «…от рождения слабоумен…»[1, с. 84], «…Нет, внучек совершенный кретин…» [1, с.85], отчужденность – «…У него и шея то не как у всех… И дышит он как то идиотически…» [1, с.85]. Неприятие «инаковости» Митрича-младшего «приближает» Веничку к четверке соседей по общежитию (потенциальные убийцы) – «…И смотрят мне в глаза, смотрят с упреком, смотрят с ожесточением людей, не могущих постигнуть…во мне тайну…» [1, с. 40], «…– Послушай-ка, ты это брось,…перестань считать, что ты Каин и Манфред, а мы мелкая сошка…» [1, с.41]. Однако устойчиво повторяющийся мотив созерцания чужих глаз даже «дистанцирующегося Веничку» сближает со слабоумным Митричем, и, следовательно, создает возможность «сопоставить» внучка с четырьмя соседями в Орехово-Зуево, внимательно разглядывающими «Ерофейчика». «Врожденное слабоумие» внучка отсылает нас к князю Мышкину, который «был совершеннейший идиот». Мотив «детскости» и само имя «персонажа» переплетается с образом царевича Дмитрия – «…царь Борис убил царевича Дмитрия, или наоборот?…» [1, с.46]. Образ «внучка» переплетается с мотивом невинности (заданный мотивом ребенка), и, следовательно, отсылает к Младенцу и ангелам. Сами образы ангелов и Младенца связаны между собой мотивом вознесения - «возвращения» в рай – Митрич-младший едет «…в карусели покататься…»[1, с. 80]. Однако в образе «слабоумного» персонажа с детской чистотой и наивностью граничит хитрость и «гадливая подлость» – «…А вы, между тем, ищете у меня на лавочке… нет ли тут компоту с белым хлебом»[1, с. 81]. Та же самая подлость присуща ангелам, которые предают Веничку «…это позорные твари...». Все это граничит с «бессознательной детской жестокостью» (отсылка к мотиву слабоумия Митрича-младшего) – «…А окурок всё дымился, а дети скакали вокруг и хохотали над этой забавностью…» [1, с. 140]. В жестокосердии детей проявляется устойчивый мотив «инаковости», задающий оппозицию «многие и эти», «он и эти» – «…многие не могли на это глядеть… А дети подбежали к нему…» [1, с. 140]. В данной ситуации «многие» проявляют понимание и жалость по отношению к «нему» (главный герой) – «…побледнев и со смертной истомой в сердце…» [1, с. 140], а «эти» сохраняют устойчивую «ненависть», тем самым частично реализуется оппозиция «я и эти» с полным сохранением вектора функциональной направленности (издевательство и злость по отношению «к нему»). По этой причине можно сопоставить ангелов – детей с четырьмя неизвестными убийцами – «…или царевич Дмитрий убил Бориса Годунова…?» [1, с. 140], в число которых мог входить и Митрич – младший. Таким образом, герой, находящийся в рамках таких антиномий, как «я и они», «мы и они», «пророк – дурак», «деликатность – кощунство», «отчужденность – приближенность», «детское – старческое», «высокое – низкое», «божественное – дьявольское», «способен примерять на себя маску» другого персонажа текста и существовать «в альтернативной версии развития событий » [3, с. 169]. Устойчивость оппозиции позволяет выстроить конкретную цепь детерминированных явлений и фактов, произошедших с героем в одной из эстетических реальностей текста, а также создает возможность четкого варианта прочтения образа «Венички».
Исходя из анализа структурных особенностей текста поэмы, а также образа главного героя, мы считаем правомерным утверждать следующее: принцип «суперпозиции» отличается от концепции «мерцающего субъекта. «Мерцающий субъект» существует в рамках одного целостного художественного мира в своей незавершенности; «суперпозиция» же предполагает существование децентрированного героя во множестве художественных реальностей, где герой приобретает целостность и завершенность в рамках целостной и завершенной реальности в интерпретации реципиента. Автономия «мерцающего субъекта» возможна в состоянии постоянной трансгрессии в рамках одного мироустройства. «Мерцающий субъект» воплощает собой внутреннюю динамику осциллирующего бытования. Его постоянные трансгрессивные переходы разворачиваются и реализуются «внутри самого себя» – многомерная реальность конструируется в рамках одномерного бытия. Существующий в состоянии суперпозиции герой, напротив, реализует «внешнюю динамику» осциллирующего состояния между двумя взаимоисключающими оппозициями, а также всецело зависит от художественного мира, который своей раздробленностью на автономные и самоценные реальности задает динамичную среду одновременного существования взаимоисключающих состояний.
Существование «суперпозиции героя» образует особый тип отношений между реципиентом и героем: бытование множественных интерпретаций, единствен-но возможных в пределах собственной аксиоматики, придает герою статус «центрообразующего субъектного начала» и частично лишает реципиента аналогичного свойства. Однако за реципиентом остается «право» формирования «угла зрения», под которым будет осуществлен «поворот» к одному из вариантов интерпретации художественного текста. «Суперпозиция героя» оформляет и особый тип отношений с автором: автор «теряет» свойство инстанции, определяющей и завершающей целостность художественного мира произведения.
Таким образом, в рамках «мерцания» «идентичность конструируется сложным образом»: субъект, сохраняя самотождественность, находится в модусе игры самотождественного: любое «Я» представлено как не «не-Я», но и любое «не-Я» представлено глазами «Я» [6, с. 27]. «Суперпозиция» героя предполагает его существование во множестве реальностей, одномоментно оформляющихся в тексте; интерпретация образа героя возможна внутри заданной реципиентом аксиоматики, однако текст предполагает существование противоположных (взаимоисключающих в классической эстетике) вариантов интерпретации.
Об авторах
Николай Андреевич Никонов
Автор, ответственный за переписку.
Email: gis.1974@inbox.ru
студент II курса филологического факультета
РоссияЕкатерина Андреевна Нечаева
Самарский университет
Email: ne4aevakaterina@yandex.ru
старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью
Россия, 443086, Самара, Московское шоссе, 34Дополнительные файлы